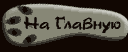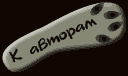Он попусту скитался – и устал,
достал этюдник, карандаш и ластик:
распались глубина и высота,
два близнеца сиамских, синей масти
под грифельным заточенным ножом,
и между ними, на черте разреза,
был нарисован сад, а после – дом,
заполненный приятным и полезным.
Когда же становилось на душе,
когтисто по-кошачьему и голо,
он наспех делал из папье-маше
гостей любого возраста и пола,
вязал табачным дымом кружева
в гостиной под каминными часами,
и сам за всех придумывал слова –
и отвечал чужими голосами,
потом, наскучив болтовнёй, бросал
в печной огонь докучливых болванов –
и отводил старательно глаза
от сморщенной обуглившейся раны.
Истёрся ластик до лохмотьев, и
сточился карандаш до самых дёсен.
Он тщетно рисовал портрет любви
по памяти – не вышло, сдался, бросил,
и, твёрдо зная: всё предрешено,
давно уже привыкший спать при свете,
из-за гардин заглядывал в окно –
а там всё то же.
Ночь. Пустыня. Ветер.
•
Моя зима - щенок твоей зимы,
с подпалинами яблок и хурмы,
резвится на дворе без поводка
и радостно хватает облака
за перистые лапы и хвосты,
утаскивая наземь с высоты,
и прячет в листопадные мешки
Евдохины худые кожушки,
а после, крупяных поев котлет,
пускает лужу у порога лет.
Щенок зимы пастушеских кровей
гоняет когтезубый вьюговей,
а тот шипит, колючий и тугой,
из-под воды кусается шугой,
бросается в лицо из-за углов,
как дикий камышовый мышелов, -
и пропадает, будто не бывал,
оставив несъедобный снеговал
притворно задремавшему в пиме
несносному щенку - моей зиме.
Твоя зима осаниста в кости
и до неё моей не дорасти,
не вылинять до взрослой белизны -
шерстинки разноцветные видны,
и будут розно сторожить дома
моя зимёнка и твоя зима,
но может быть, однажды станет мой
смешной щенок зимы - твоей зимой
•